Кинооператор Петр ДУХОВСКОЙ недавно закончил работу над новым телевизионным сериалом “Конвой PQ-17”, снятым по повести Валентина ПИКУЛЯ “Реквием каравану PQ-17”. В фильме рассказывается о гибели в 1942 году американо-англо-советского каравана транспортных судов, шедшего с оружием и продовольствием по Северному морскому пути из Рейкьявика в Мурманск. Однако наша беседа была не только об ожидаемой премьере, но и о самой профессии. Тем более что Духовской, лауреат трех международных премий за операторское мастерство, начинал трудовую деятельность в качестве фотокора газеты “Солидарность”.
“ПРОФЕССИЙ МНОГО, НО...”
- Петр, как же ты дошел до жизни такой - бросил фотографию и стал заниматься операторским делом?
- Понимаешь, я с детства увлекался фотографией, музыкой, театром, много рисовал... А профессия оператора - это такой интересный синтез всех названных искусств. Причем для меня не было выбора между съемкой художественной и документальной - мне больше нравится не “фиксировать” реальность, а создавать ее. Камера кинооператора творит новый мир. Вот почему я решительно выбрал эту работу и теперь нисколько не жалею. Хотя выбирать, чем заниматься и где жить, пришлось довольно долго...
Жизнь Петра почти с рождения проходила в путешествиях. Его отец, Леонид Дубшан, - петербуржец, мама, Елена Потапкина, - москвичка. После его рождения они почти сразу развелись, и Петя поочередно жил то в родном Петербурге, то у мамы в Москве... “Такая жизнь быстро сделала меня самостоятельным человеком”. Когда пришло время получать паспорт, Петя и тут проявил самостоятельность - отказался от папиной фамилии и взял прапрадедушкину.
Его прапрадед Иван Духовской заслуживает отдельного материала, однако о судьбе своего уважаемого предка потомок рассказывает скупо. Петр выяснил, что происходил Иван Васильевич из священническо-дворянской семьи (по тем временам - жуткий мезальянс!), жил в Нижнем Новгороде, был слеп от рождения и дружил с писателем Короленко. Вроде бы именно с него Короленко и “списал” своего “слепого музыканта”, героя одноименной повести. Умер Иван Васильевич Духовской в эмиграции, в Женеве, в 1914 году.
Праправнук “слепого музыканта” всегда выглядел старше своих лет. В августе 1991 года 15-летний Петя пошел к Белому дому “защищать демократию” - естественно, не сказав ни слова родным. “Стал записываться в ополчение. Меня, как обычно небритого, спросили, в каком я воинском звании. На что я “честно” сказал: “Рядовой”. Видимо, списки ополченцев попали в канцелярию президента, потому что Петру потом позвонили домой и сообщили, что он представлен к награде - медали “Защитнику Свободной России”. Получил Петр награду в 1992 году. “В 1993 году я стал умнее и на баррикады уже не пошел”.
В том же 1993 году Духовской решил поступать во ВГИК на операторский факультет. Не поступил. Засел за учебники и в следующем году успешно сдал вступительные экзамены. Самым тяжелым для многих абитуриентов испытанием было собеседование, которое проводил декан операторского факультета Владимир Чумак. “Он показывал нам репродукции живописных полотен, икон и фресок и спрашивал: “Что за работа, кто автор?” Ко второму разу я на вопросы отвечал с легкостью. Уже в конце этой “угадайки” Владимир Гаврилович показал мне черно-белый фрагмент фрески и спросил, кто ее написал. Я уверенно ответил: “Феофан Грек”. - “Откуда такая уверенность?” - “Но ведь Рублева вы мне уже показывали...”
“ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ” И ПЕРВЫЙ ЦВЕТНОЙ
Со второго курса началось собственно кино - сначала учебное. И тут Петру повезло - оператор нашел “своего” режиссера. Им стал студент режиссерского факультета, земляк-петербуржец Александр Котт. Уже третья их “короткометражка” была международной. Франко-немецкий телеканал Arte прислал во ВГИК заявку на однокадровый короткометражный фильм. Александр Котт отправил на конкурс свой сценарий немой черно-белой короткометражки “Путешествие” - и его приняли.
“Сценарий был таков: камера находится в кабине лифта, лифт опускается и открывает двери на разных этажах. И сценки выстраиваются в историю жизни персонажа - от рождения до смерти. Мы построили “этаж” и “лифт” в павильоне и сделали еще одну фоновую линию сюжета - будто в доме идет ремонт: на первом этаже он в самом начальном состоянии, но постепенно весь дом обновляется. Для контраста - жизнь идет на убыль, а фон все свежее”. “Путешествие” получило множество наград, в том числе два приза за операторскую работу - Американской киноакадемии и фестиваля “Кинотавр”.
Первая полнометражная цветная кинолента Петра Духовского называлась “Ехали два шофера”. Ее режиссером также был Александр Котт. “Шоферов” снимали добросовестно, упорно, трудно и долго. Местом съемок стал городок Красноуфимск Свердловской области. Действие фильма происходит в сороковых годах, сразу после войны. Сюжет - история сильной и страстной любви молодого водителя полуторки “АМО”, неутомимого бабника Кольки Снегирева (Павел Деревянко) к девушке Райке (Ирина Рахманова), шоферу роскошного ленд-лизовского “форда”. Дело осложняется тем, что в Райку влюблены практически все окрестные парни, в том числе пилот “кукурузника” с местного аэродрома, с которым барышня регулярно летает. В прямом смысле.
- Все диалоги в воздухе мы снимали на земле, - рассказывает Петр. - Включали “ветродуй” (мощный вентилятор. - А.Ч.), члены съемочной группы раскачивали самолет - благо это был “кукурузник”, легкий ПО-2 с “тряпочными” крыльями. Пиротехники иногда дымку поддавали - вроде это выхлоп двигателя или облачность. А актеры кричали... Кадры делали на фоне пасмурного неба, чтобы не было видно, что самолет стоит.
В самом начале съемок самолет ПО-2, который киношники арендовали на подмосковном аэродроме Мячково... разбился. Дело было так - машину надо было доставить на место съемки, на Урал. И летчики-каскадеры полетели из Москвы своим ходом на открытом двухместном фанерном самолетике! Не долетели - машина упала в болото. Люди были целы, но на восстановление “кукурузника” ушло около месяца. Однако потом летчики работали здорово. “У нас была возможность использовать модели самолетов при съемке фигур высшего пилотажа, но оказалось, что трюки летчики хотят и могут выполнять сами. Никакого начальства, чтоб запретить им это делать, над ними не было. Они летали над камерой на предельно малой высоте - чуть более метра. Единственный трюк, который мы им выполнять не позволили (его в кадре делает модель самолета), - это “петля Нестерова”.
На съемках “Шоферов” даже массовку переодевать не пришлось: “До сих пор в провинции народ одевается примерно так же, как раньше”. Не пришлось искать интерьеры и натуру - кино снимали в конторах и бараках заброшенного аэродрома Красноуфимска.
На месте нашелся и другой реквизит. Так, полуторка, на которой в фильме ездит Колька Снегирев, до этого стояла в Красноуфимске... на постаменте. “Нам говорили, что она никогда не поедет, что там все давно сгнило. А оказалось - все в порядке. Перебрали двигатель, залили бензин и масло, и машинка поехала. Картину отработала “на ура”. Лишь под конец фильма полуторка стала барахлить и “умерла”. Теперь она снова - памятник”.
Хотя фильм “Ехали два шофера” весьма динамичен, Петр Духовской и тут использовал свои любимые статичные кадры, с помощью которых, по его мнению, лучше всего показывать внутренний мир человека. “Помнишь эпизод, когда Колька уходит с аэродрома? Там “дальний план” - по полю идет маленькая фигурка, ее обоняет телега, потом эта фигурка запрыгивает на телегу и едет на ней дальше. Кроме этого там ничего не происходит. Но эта маленькая фигурка подчеркивает, что человек остался один на один со своими проблемами. Поэтому план длинный - за счет его длины, пустоты и тишины показано душевное состояние героя”. Финал фильма отличается от того, что в знаменитой песне, - Колька Снегирев остался жив. “Жалко нам стало героя”, - признался Духовской.
“МЫЛО” И “РУССКИЙ “ПИРЛ-ХАРБОР”
В творческой биографии Петра Духовского уже немало художественных фильмов, но даже для краткого рассказа обо всех не хватит газетной страницы. В последнее время он работал на съемках телесериалов. Они шли практически подряд - “Цирк” (режиссер все тот же Александр Котт) и телесериал “Дни ангела”, замечательный лишь своими звездами (в главной роли Валентин Гафт, режиссер Юрий Апасян). Монтаж последнего “мыла” только завершен. Телесериал “Конвой PQ-17” (режиссер Александр Котт) должен был выйти на экраны к празднику Победы. Однако продюсеры решили перенести премьеру на сентябрь - чтобы картина не затерялась в ряду других фильмов о войне.
Картину уже успели назвать в эфире “Би-би-си” “русским “Пирл-Харбором”. Однако Духовской утверждает, что со знаменитой американской киноэпопеей у нового фильма нет практически ничего общего - “разве что обилие кинохроники...”
В новой “истории” главных героев нет. Как нет и звезд - режиссер принципиально не хотел снимать в картине знакомых всем артистов, ибо киноистория, как и повесть Пикуля, основана на реальных событиях. Сериал рассказывает о судьбе каравана, прорывавшегося в СССР через льды и вражеские кордоны весной 1942 года из Рейкьявика в Мурманск. К этому моменту британский флот был почти полностью разбит. Непотопляемый немецкий линкор “Тирпиц” и немецкая авиация охотятся за караваном. Поэтому английское адмиралтейство отзывает свои корабли охранения и бросает транспортные суда в открытом море без какой-либо защиты. Самолеты и подлодки немцев бомбят и торпедируют корабли. В итоге из тридцати судов в Мурманск приходят только семь. Другая сюжетная линия - история советской подлодки КА-21, которая торпедирует “Тирпиц”, почему вражеский линкор не доходит до каравана. Есть любовь - история матроса подлодки КА-21 и его девушки, которая находится на одном из транспортов каравана. Масса кинохроники. Эпизоды в кабинетах с участием “Сталина”, “Гитлера” и “Черчилля”. Духовской огорчен: “Это - лица узнаваемые, а в нашем кино портретного сходства нет!”
Кабинеты Сталина и Черчилля снимали на даче киноактера Половцева, для съемок “бункера Гитлера” использовали павильон. Интерьеры подлодок, нашей и немецкой, нашли в музеях Североморска. “Был момент, когда подлодку бомбят глубинными бомбами. Корпус лодки вздрагивает, и матросы, которые в этот момент в ней, тоже падают и качаются, кто-то ударяется о стену... Это делалось синхронно с дерганьем камеры по команде режиссера “Взрыв!”. На палубе одного из кораблей у нас “стреляла” по врагу фанерная модель британского танка “Матильда”. Пиротехники взрывали заряд в стволе этого фанерного танка, а для изображения отката орудия приходилось трясти камеру”. Тонущие корабли снимали на затопленных ржавых баржах в Мурманском порту.
На съемках, длившихся с мая по октябрь прошлого года, Духовской... потерял волосы. “Снимал взрыв на полузатопленном корабле, который на жаргоне пиротехников называется “фог”, то есть взрыв газа. Взрывали рубку. Ударная волна должна была выбить дверь, а огонь - полыхнуть в сторону камеры. Потом в кадр выбегал горящий каскадер и выливал на себя ведро воды. Перед этим кадром меня пиротехники предупредили: надо хорошенько укрыться, потому что газ - штука непредсказуемая. Вроде укрылся хорошо, надел на себя штормовой плащ... Взрыв, все шло по плану, только... горящий газ опалил мне волосы на лице и голове. Пришлось остатки сбрить и долго ходить бритым и лысым”.
Одной из своих творческих удач Петр считает эпизод с капитаном американского транспортного судна, торпедированного немецкой подлодкой. Судно тонет, подлодка всплывает, и немцы выходят на мостик. Капитан просит их забрать его с собой, - судно уже почти ушло под воду. Немцы отказываются, скрываются в люке, субмарина начинает погружение... Последний кадр эпизода - лицо американца, видное через перископ подводной лодки.
- К счастью, этот кадр не выбивается зрительно из всего фильма, - говорит Духовской. - Я никогда не забуду то, что сказал мне мой учитель Владимир Чумак: “Когда во время премьеры какому-то кадру аплодируют, то это - операторский провал. Ты не должен снимать скучно и плохо, но ни один кадр не должен смотреться отдельно от картины”.
Алексей ЧЕБОТАРЕВ
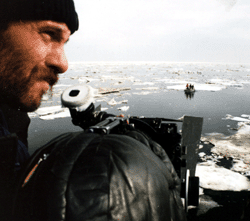

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте