30 сентября в редакции “Российской газеты” прошла презентация книги маститого советского журналиста Всеволода ОВЧИННИКОВА “Калейдоскоп жизни”. Это автобиографическое повествование содержит около сотни любопытнейших эпизодов журналистской и человеческой судьбы, в том числе шокирующих. Почти трехсотстраничная книга читается буквально на одном дыхании и за один день.
Представляя публике свой труд, 77-летний виновник торжества намекнул на то, что это вовсе не мемуары итогового характера, а прежде всего собрание эпизодов личной судьбы - “за полвека странствий по свету и размышлений об увиденном”. Овчинников рассказал, как недавно в одном медицинском институте ему “по американской методике определяли истинный биологический возраст. Оказалось - 54 года, а вовсе не семьдесят семь!”
Как говорится, человеку именно столько лет, на сколько он себя чувствует. Впрочем, сколько бы их ни было, знаменитый правдист и великолепный рассказчик пережил за это время столько событий, что другому хватило бы на несколько жизней. О некоторых Всеволод Владимирович рассказал на презентации. Другие почерпнуты непосредственно из книги...
Родился Всеволод Овчинников в Ленинграде в 1926 году. 15-летним пареньком пережил ужасы блокады 1942-го. Выжить, как он рассказывает, удалось благодаря тому, что они с братом “изловчились ловить на рыболовный крючок бездомных кошек... Каждую тушку ели дней десять, а из обглоданных костей варили студень”. Осенью 1942 года семья Овчинниковых эвакуировалась из блокадного Ленинграда в село Плетнево (Омская область), где Всеволод “в 16 лет оказался главным кормильцем семьи”, работая счетоводом в колхозе. После призыва в армию весной 1944 года он “снова оказался в родном Питере, в военно-морском училище”. Правда, в гардемаринах пробыл недолго - “выявили близорукость (последствие блокадной дистрофии)”. Приговор начальства был безжалостным: “Овчинка выделки не стоит!”
Зато Всеволоду удалось поступить в Москве на морской факультет Военного института иностранных языков, причем на китайское отделение, которое ввиду сложности языка популярностью у абитуриентов не пользовалось. А в 1949 году, рассказывает Овчинников, “была провозглашена Китайская народная республика, и моя профессия вдруг стала самой модной”. Вскоре молодого китаиста прикрепили к одной из китайских делегаций в качестве переводчика, и он произвел впечатление на главного редактора “Правды” Леонида Ильичева, который добился, чтобы старшего лейтенанта Овчинникова откомандировали в распоряжение главреда “Правды”. “Так определилась моя судьба на последующие сорок лет”, - отмечает журналист, ушедший из главной советской газеты весной 1991 года. За это время он был литсотрудником, заведующим отделом Азии и Африки, а главное, семь лет работал корреспондентом “Правды” в Китае, затем семь лет - собкором в Японии, а в 1970-х годах - пять лет в Англии.
Овчинников написал об этих странах 16 книг общим тиражом 7 млн. экземпляров. В их числе - знаменитые книги очерков “Ветка сакуры” (о Японии) и “Корни дуба” (об Англии). А поскольку он “в советские годы получал не по доллару, а по две копейки за экземпляр”, то после гайдаровской реформы цен “человек, входивший в первую десятку журналистов-международников страны, оказался в категории “новых бедных”... Пришлось на четыре года уехать в Китай...” В конце девяностых публицистический талант и журналистский опыт Овчинникова оказались востребованы “Российской газетой”...
“Фамильный” публицистический стиль журналиста и востоковеда Овчинникова базируется на желании рассказать читателю не только о событиях и проблемах некой зарубежной страны, “но и о той почве, в которой эти проблемы коренятся”. Проще говоря, попытаться проникнуть в характер нации, познать душу народа. Овчинников так формулирует свое творческое кредо: “Убедить читателя, что нельзя мерить чужую жизнь на свой аршин, нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев, ибо они отнюдь не универсальны...” Чтобы сохранить национальную самобытность в эпоху глобализации, полагает публицист, “нужно следовать принципу симфонизма. Пусть у каждого народа будет свой голос, подобно музыкальному инструменту в оркестре”. Именно эти принципы, по его мнению, и составляют “правильную методику восприятия зарубежной действительности... Особенности национального характера дают ключ к познанию чужой страны, к подлинному пониманию ее реалий”.
А увлекательных историй в книге масса. Автор рассказывает о том, как ему, молодому правдисту-китаисту, дабы добиться командировки в Пекин, пришлось съесть без хлеба и соли тухлое яйцо. И про то, как жители глухой китайской деревушки хотели расстрелять советского корреспондента, приняв его за вражеского диверсанта.
Читатель узнает много нового о “китайских церемониях” и о чудовищном разнообразии китайской национальной кухни. О том, как Овчинникова удостоил рукопожатия сам “великий кормчий”, председатель КНР Мао Цзэдун, после чего простые китайцы стали почитать нашего журналиста как некое сверхъестественное существо. О сексуальной невостребованности женщин Тибета, стаями кидающихся на каждого встречного чужеземца. О китайских планах поворота северных рек (прежде всего Янцзы) на юг - куда более масштабных, нежели аналогичные советские прожекты. О причине ссоры Мао и Никиты Хрущева (китайский руководитель выставил “кукурузника” на посмешище, уличив его в неумении плавать).
Овчинников признается, что ему пришлось схитрить, дабы добиться перевода в Японию, и затем всерьез учить японский язык непосредственно в Стране восходящего солнца. Рассказывает, как по настоятельному совету руководства пришлось сдать на металлолом уникальный “кадиллак” 1950 года выпуска, который сейчас можно было бы продать за 250 тысяч долларов. И даже про то, как он по собственной инициативе практически побывал в состоянии клинической смерти, отведав смертельно ядовитой рыбы фугу, а затем собственноручно выращивал жемчуг на специальной ферме в течение полугода. О том, что в суперцивилизованной и технократичной Японии людям вовсе не возбраняется справлять малую нужду в общественном месте - там, где приспичило. А участковый (околоточный) в Японии является для обывателей чуть ли не членом семьи - от него ничего не скрывают.
Читатель познакомится с культурой пабов (пивных) в Англии и узнает о том, как Скотланд-ярд проверял, с кем спят советские журналисты. Узнает об обычае древних бриттов метить рубежи своих владений мочой. А также много интересного и забавного о других странах, где побывал автор книги.
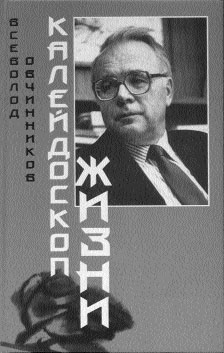

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте