- Михаил Геннадьевич, в качестве одной из главных задач президент Путин назвал модернизацию армии. Не слишком ли большое значение придается этой задаче?
- Не забывайте, что Россия ведет войну, причем на своей территории. И кардинального улучшения ситуации, насколько можно понять даже по официальным сообщениям, так и не произошло.
Кроме того, напряженность в современном мире растет настолько наглядно, что боеспособная армия вновь становится категорически необходимым фактором национальной конкурентоспособности.
Наконец, последнее - и главное. Армия в нашей стране стала сферой страшного насилия над людьми, причем не только над солдатами, но и над офицерами. Положение ухудшилось даже по сравнению с тем, что было в советские времена. Реформаторы хвастаются притоком молодежи в вузы - но надо работать в их правительстве, чтобы не видеть, что привлекательность высшего образования вызвана не его качеством и не перспективами, которые оно открывает, а тем, что оно позволяет избежать армии.
- Так ведь положение с нехваткой призывников вроде бы улучшается...
- Это результат формирования “застойной нищеты” как устойчивого социального явления. Люди, особенно молодые, обостренно осознают полное отсутствие каких-либо перспектив для себя. В этих условиях даже современная армия стала едва ли единственным способом вырваться из безысходности и нищеты - вновь, как после коллективизации.
Однако через несколько лет, уже к 2008 году, в силу изменения демографической ситуации число призывников резко сократится. Если к тому моменту армия не станет контрактной, она попросту останется без солдат.
- Но какой должна быть контрактная армия? Копий сломано много, а ясности нет...
- Пока преобразование армии идет медленно; ни один из пороков армии, по большому счету, не исправлен. Если система призыва к моменту демографического “перелома” сохранится в сегодняшнем виде, общество столкнется с резким ужесточением “охоты на призывников”, что вызовет большой рост социально-политического напряжения “на пустом месте”.
В сегодняшней армии контрактники остаются чужеродным телом. Во многом потому, что сознают ценность своей жизни и сохраняют в силу этого чувство собственного достоинства.
Категорически необходимым представляется формирование принципиально новой группы военнослужащих - профессиональных сержантов, служащих по контракту. Как в США, они станут костяком современной армии и резко снизят потребность как в офицерах, так и в призывниках.
Однако этому, как и модернизации армии в целом, успешно сопротивляется военная бюрократия. Она заинтересована в сохранении статус-кво, и без ее слома боеспособность армии невозможна в принципе.
Достаточно указать, что, несмотря на бесконечные разговоры, в армии так и не создан эффективный финансовый контроль. В результате каждое звено военного финансового механизма объективно нацелено на максимизацию затрат; ясно, что в этих условиях даже на заведомо слабую армию не хватит никаких денег! А прошлым летом вообще случился анекдот: судя по динамике долгов по выплате денежного довольствия военнослужащим, чуть ли не всей армии выплаты были задержаны как минимум на месяц - и никого это не заинтересовало!
- А в чем, по-вашему, причина того, что армия стала едва ли не самой неблагополучной частью общества?
- Каждая система должна четко сознавать свою цель. Без этого она начинает гнить и разлагаться на корню.
Сегодняшняя российская армия существует в условиях, когда руководство страны так и не определилось до конца, от кого же она должна защищать страну.
Война в Чечне ликвидировала все сомнения в части “конфликтов малой интенсивности” и противодействия терроризму, в том числе международному. Эта задача признана официально. Но реальные изменения - в части реструктуризации вооруженных сил, перевооружения, переобучения, распространения боевого опыта, которого за последние 15 лет накоплено больше, чем хотелось бы, - совершенно недостаточны.
Причина - не только в инертности “военной бюрократии”, но и в существовании второй задачи, которую никто не смеет признать, но все подразумевают. Имеется в виду готовность противодействовать традиционным угрозам, в первую очередь со стороны НАТО и, возможно, Китая. Официальная позиция заключается в достаточности российского ядерного потенциала. Однако следует, не вдаваясь в подробности, признать, что развитие современных технологий делает этот потенциал более уязвимым, чем десять лет назад. В конце концов, соратник Чубайса Кох еще в 1997 году указывал на принципиальную возможность нейтрализации российского ядерного оружия даже десантниками.
В результате российский военный механизм, официально ориентируемый на “малые” войны, не только по бюрократической инерции, но и в силу ощущаемой, хотя и не признаваемой реальной потребности вынужден “иметь в виду” еще и широкомасштабный конфликт. Одновременное решение двух столь различных задач исключительно сложно само по себе. В условиях же, когда одна из них просто не признается, создание эффективной системы становится невозможным.
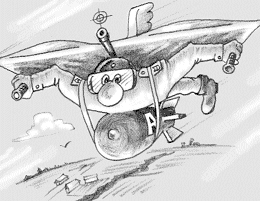

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте